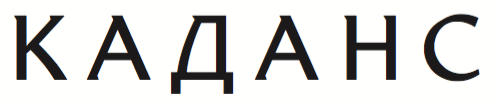текст богдана королька
Лексикон балетной брани
новая российская хореография в метафорах и эпитетах
текст богдана королька
Лексикон балетной брани
новая российская хореография в метафорах и эпитетах
Для оценки новых произведений искусства в русском языке разработана целая система сигналов и условных знаков – особый словарь, по преимуществу ругательный. Русский язык вообще гораздо лучше приспособлен для иронично-негативных реакций, чем для похвалы и одобрения, соответствующих слов в нем гораздо больше – это приходится признать как данность.
Желающий похвалить каждый раз вынужден бороться с известным чувством неловкости. Многие эпитеты, потеряв от неумеренного использования всякий смысл (например, «гениальный»), стали признаком дурного вкуса. Одобрительный тон обычно лишен того напора и энергии, каким обладает обвинительная речь, весело-нахальная или назидательная. Когда хвалишь, легко скатиться в сахарно-сопливую интонацию. Прокурорская позиция дает конструктивную выгоду – сообщает тексту динамику и жесткость, удерживает внимание читателя. Желающему похвалить приходится изворачиваться, чтобы читатель на втором абзаце не отправил его к чертям.
Здесь рассуждение следует оборвать, потому что оппозиция «похвала – ругань» в отношении института критики вообще-то неверна. Как будто похвала или ругань и есть цель критики, точнее – как будто критика в принципе может оперировать этими профанными понятиями.
Желающий похвалить каждый раз вынужден бороться с известным чувством неловкости. Многие эпитеты, потеряв от неумеренного использования всякий смысл (например, «гениальный»), стали признаком дурного вкуса. Одобрительный тон обычно лишен того напора и энергии, каким обладает обвинительная речь, весело-нахальная или назидательная. Когда хвалишь, легко скатиться в сахарно-сопливую интонацию. Прокурорская позиция дает конструктивную выгоду – сообщает тексту динамику и жесткость, удерживает внимание читателя. Желающему похвалить приходится изворачиваться, чтобы читатель на втором абзаце не отправил его к чертям.
Здесь рассуждение следует оборвать, потому что оппозиция «похвала – ругань» в отношении института критики вообще-то неверна. Как будто похвала или ругань и есть цель критики, точнее – как будто критика в принципе может оперировать этими профанными понятиями.
Для оценки новых произведений искусства в русском языке разработана целая система сигналов и условных знаков – особый словарь, по преимуществу ругательный. Русский язык вообще гораздо лучше приспособлен для иронично-негативных реакций, чем для похвалы и одобрения, соответствующих слов в нем гораздо больше – это приходится признать как данность.
Желающий похвалить каждый раз вынужден бороться с известным чувством неловкости. Многие эпитеты, потеряв от неумеренного использования всякий смысл (например, «гениальный»), стали признаком дурного вкуса. Одобрительный тон обычно лишен того напора и энергии, каким обладает обвинительная речь, весело-нахальная или назидательная. Когда хвалишь, легко скатиться в сахарно-сопливую интонацию. Прокурорская позиция дает конструктивную выгоду – сообщает тексту динамику и жесткость, удерживает внимание читателя. Желающему похвалить приходится изворачиваться, чтобы читатель на втором абзаце не отправил его к чертям.
Здесь рассуждение следует оборвать, потому что оппозиция «похвала – ругань» в отношении института критики вообще-то неверна. Как будто похвала или ругань и есть цель критики, точнее – как будто критика в принципе может оперировать этими профанными понятиями.
Желающий похвалить каждый раз вынужден бороться с известным чувством неловкости. Многие эпитеты, потеряв от неумеренного использования всякий смысл (например, «гениальный»), стали признаком дурного вкуса. Одобрительный тон обычно лишен того напора и энергии, каким обладает обвинительная речь, весело-нахальная или назидательная. Когда хвалишь, легко скатиться в сахарно-сопливую интонацию. Прокурорская позиция дает конструктивную выгоду – сообщает тексту динамику и жесткость, удерживает внимание читателя. Желающему похвалить приходится изворачиваться, чтобы читатель на втором абзаце не отправил его к чертям.
Здесь рассуждение следует оборвать, потому что оппозиция «похвала – ругань» в отношении института критики вообще-то неверна. Как будто похвала или ругань и есть цель критики, точнее – как будто критика в принципе может оперировать этими профанными понятиями.
Любой разговор о начинающих хореографах в отечественном контексте неизменно сводится к той же дурной антиномии: ну что ж, похвалим или поругаем?
Любой разговор о начинающих хореографах в отечественном контексте неизменно сводится к той же дурной антиномии: ну что ж, похвалим или поругаем?
В отношении молодых хореографов негативный лексикон разработан особенно подробно. Дебютант: несамостоятельный, инфантильный, самонадеянный. Хореографический язык: стандартный, шаблонный, не стал откровением, мало оригинальности. Эрзац. Скудный набор комбинаций. Напоминает зачет по композиции. Многословие обернулось пустословием. Натужное оригинальничанье (нечто из словаря советских 1930-х). Заштампованность мышления. Низкий уровень культуры. Эйфория стилевого хаоса. Не оправдал оказанного доверия. Хочет быть благодарным учеником, но не копией. Не Баланчин.
Самое драгоценное слово в этой россыпи – эпигон. Оно красиво и мощно: расположение ударного о после звонкого г делает его похожим на удар молота, повторенное много раз подряд, оно звучит как набат. Чтобы адресату не было очень обидно, слово можно сдобрить позитивным эпитетом: например, симпатичный эпигон. Вот и бьем по голове каждого встречного: эпигон, эпигон, эпигон, эпигон, эпигон.
Эпигон – потому что наверняка с кого-нибудь свою работу содрал. Угадывать, на чьи старые произведения похоже новое – естественная реакция зрителя/слушателя. Когда сталкиваешься с чем-то новым и никем не объясненным, срабатывает культурный инстинкт: мозг начинает искать аналоги в недрах собственного визуального/аудиального опыта. К тому же это очень увлекательно. Главное вовремя остановиться – иначе рискуешь найти то, чего на самом деле не существует, и, напротив, упустить нечто фундаментальное, более важное, чем внешнее сходство с чем-либо прежде виденным/слышанным.
Другое дело, что игра в «кто на кого похож» недостаточна для полноценного суждения о новом произведении, при дальнейшем анализе эти костыли лучше выкинуть. В случае с молодыми хореографами угадайкой дело часто и заканчивается. Наблюдатель W считает, что дебютант Пупкин копирует стиль Баланчина и Форсайта. Наблюдатель Y в той же самой работе Пупкина не находит ни Баланчина, ни Форсайта, но усматривает влияние Фокина и Якобсона. Z видит здесь в чистом виде хореографа Веру Боккадоро. Обычно все это говорит только о кругозоре наблюдателей.
При этом подражание Баланчину нам не любо, оглядка на Форсайта – фи, работа со структурой классического экзерсиса в духе Ландера – «заслонился от мира балетной палкой». Постоянные перечисления гениев прошлого говорят, скорее всего, только об одном.
Самое драгоценное слово в этой россыпи – эпигон. Оно красиво и мощно: расположение ударного о после звонкого г делает его похожим на удар молота, повторенное много раз подряд, оно звучит как набат. Чтобы адресату не было очень обидно, слово можно сдобрить позитивным эпитетом: например, симпатичный эпигон. Вот и бьем по голове каждого встречного: эпигон, эпигон, эпигон, эпигон, эпигон.
Эпигон – потому что наверняка с кого-нибудь свою работу содрал. Угадывать, на чьи старые произведения похоже новое – естественная реакция зрителя/слушателя. Когда сталкиваешься с чем-то новым и никем не объясненным, срабатывает культурный инстинкт: мозг начинает искать аналоги в недрах собственного визуального/аудиального опыта. К тому же это очень увлекательно. Главное вовремя остановиться – иначе рискуешь найти то, чего на самом деле не существует, и, напротив, упустить нечто фундаментальное, более важное, чем внешнее сходство с чем-либо прежде виденным/слышанным.
Другое дело, что игра в «кто на кого похож» недостаточна для полноценного суждения о новом произведении, при дальнейшем анализе эти костыли лучше выкинуть. В случае с молодыми хореографами угадайкой дело часто и заканчивается. Наблюдатель W считает, что дебютант Пупкин копирует стиль Баланчина и Форсайта. Наблюдатель Y в той же самой работе Пупкина не находит ни Баланчина, ни Форсайта, но усматривает влияние Фокина и Якобсона. Z видит здесь в чистом виде хореографа Веру Боккадоро. Обычно все это говорит только о кругозоре наблюдателей.
При этом подражание Баланчину нам не любо, оглядка на Форсайта – фи, работа со структурой классического экзерсиса в духе Ландера – «заслонился от мира балетной палкой». Постоянные перечисления гениев прошлого говорят, скорее всего, только об одном.
В отношении молодых хореографов негативный лексикон разработан особенно подробно. Дебютант: несамостоятельный, инфантильный, самонадеянный. Хореографический язык: стандартный, шаблонный, не стал откровением, мало оригинальности. Эрзац. Скудный набор комбинаций. Напоминает зачет по композиции. Многословие обернулось пустословием. Натужное оригинальничанье (нечто из словаря советских 1930-х). Заштампованность мышления. Низкий уровень культуры. Эйфория стилевого хаоса. Не оправдал оказанного доверия. Хочет быть благодарным учеником, но не копией. Не Баланчин.
Самое драгоценное слово в этой россыпи – эпигон. Оно красиво и мощно: расположение ударного о после звонкого г делает его похожим на удар молота, повторенное много раз подряд, оно звучит как набат. Чтобы адресату не было очень обидно, слово можно сдобрить позитивным эпитетом: например, симпатичный эпигон. Вот и бьем по голове каждого встречного: эпигон, эпигон, эпигон, эпигон, эпигон.
Эпигон – потому что наверняка с кого-нибудь свою работу содрал. Угадывать, на чьи старые произведения похоже новое – естественная реакция зрителя/слушателя. Когда сталкиваешься с чем-то новым и никем не объясненным, срабатывает культурный инстинкт: мозг начинает искать аналоги в недрах собственного визуального/аудиального опыта. К тому же это очень увлекательно. Главное вовремя остановиться – иначе рискуешь найти то, чего на самом деле не существует, и, напротив, упустить нечто фундаментальное, более важное, чем внешнее сходство с чем-либо прежде виденным/слышанным.
Другое дело, что игра в «кто на кого похож» недостаточна для полноценного суждения о новом произведении, при дальнейшем анализе эти костыли лучше выкинуть. В случае с молодыми хореографами угадайкой дело часто и заканчивается. Наблюдатель W считает, что дебютант Пупкин копирует стиль Баланчина и Форсайта. Наблюдатель Y в той же самой работе Пупкина не находит ни Баланчина, ни Форсайта, но усматривает влияние Фокина и Якобсона. Z видит здесь в чистом виде хореографа Веру Боккадоро. Обычно все это говорит только о кругозоре наблюдателей.
При этом подражание Баланчину нам не любо, оглядка на Форсайта – фи, работа со структурой классического экзерсиса в духе Ландера – «заслонился от мира балетной палкой». Постоянные перечисления гениев прошлого говорят, скорее всего, только об одном.
Самое драгоценное слово в этой россыпи – эпигон. Оно красиво и мощно: расположение ударного о после звонкого г делает его похожим на удар молота, повторенное много раз подряд, оно звучит как набат. Чтобы адресату не было очень обидно, слово можно сдобрить позитивным эпитетом: например, симпатичный эпигон. Вот и бьем по голове каждого встречного: эпигон, эпигон, эпигон, эпигон, эпигон.
Эпигон – потому что наверняка с кого-нибудь свою работу содрал. Угадывать, на чьи старые произведения похоже новое – естественная реакция зрителя/слушателя. Когда сталкиваешься с чем-то новым и никем не объясненным, срабатывает культурный инстинкт: мозг начинает искать аналоги в недрах собственного визуального/аудиального опыта. К тому же это очень увлекательно. Главное вовремя остановиться – иначе рискуешь найти то, чего на самом деле не существует, и, напротив, упустить нечто фундаментальное, более важное, чем внешнее сходство с чем-либо прежде виденным/слышанным.
Другое дело, что игра в «кто на кого похож» недостаточна для полноценного суждения о новом произведении, при дальнейшем анализе эти костыли лучше выкинуть. В случае с молодыми хореографами угадайкой дело часто и заканчивается. Наблюдатель W считает, что дебютант Пупкин копирует стиль Баланчина и Форсайта. Наблюдатель Y в той же самой работе Пупкина не находит ни Баланчина, ни Форсайта, но усматривает влияние Фокина и Якобсона. Z видит здесь в чистом виде хореографа Веру Боккадоро. Обычно все это говорит только о кругозоре наблюдателей.
При этом подражание Баланчину нам не любо, оглядка на Форсайта – фи, работа со структурой классического экзерсиса в духе Ландера – «заслонился от мира балетной палкой». Постоянные перечисления гениев прошлого говорят, скорее всего, только об одном.
Мы – все участники художественного процесса, практики и наблюдатели, – сами не очень хорошо знаем, чего хотим от хореографов будущего.
Мы – все участники художественного процесса, практики и наблюдатели, – сами не очень хорошо знаем, чего хотим от хореографов будущего.
Подражание начинающих хореографов великим предшественникам в публичных высказываниях часто преподносится как смертный грех. Но лично я не верю в гениев, которые могут свалиться с неба и тотчас одарить нас новым словом в искусстве. Чем бы ты ни занимался, ставил балеты или горшки лепил, вначале все равно будешь за кем-то повторять и подглядывать. Дальнейшее зависит от твоей любознательности, способности к критическому мышлению и, пардон, таланта.
Устало сравнивая молодых хореографов со столпами прошлого, обычно упускают самое важное. Из трехсот балетов гениального Баланчина мы знаем только двадцать лучших. Первый из дошедших до сего дня балетов Петипа, «Баядерку», автор поставил в 59 лет. Даже причисленный к стану гениев Алексей Ратманский за свои первые значимые работы, показанные в Петербурге, получил клеймо эрзац-хореографа. Теперь и Ратманского нет, балетное сообщество потупило взоры и каждого претендента на вакантную должность Российского Хореографа бьет по рукам. На всякий случай. Лучше уж не будет.
Ценность отдельных балетов того же Баланчина, дошедших до России очень поздно и в отрыве от породившего их контекста, принято проецировать на все остальные его работы. И кажется, что новые «Аполлоны» и «Агоны» тоже могут сваливаться с неба по лицензии, а каждый молодой хореограф с первой же постановки должен быть гением, а не то разрешите вам выйти вон. Лишь потом оказывается, что рост новых хореографов – дело крайне медленное, что хореографы – товар штучный, массово не произрастают, и требуют бездну терпения, сдержанности и помощи наблюдателей.
Устало сравнивая молодых хореографов со столпами прошлого, обычно упускают самое важное. Из трехсот балетов гениального Баланчина мы знаем только двадцать лучших. Первый из дошедших до сего дня балетов Петипа, «Баядерку», автор поставил в 59 лет. Даже причисленный к стану гениев Алексей Ратманский за свои первые значимые работы, показанные в Петербурге, получил клеймо эрзац-хореографа. Теперь и Ратманского нет, балетное сообщество потупило взоры и каждого претендента на вакантную должность Российского Хореографа бьет по рукам. На всякий случай. Лучше уж не будет.
Ценность отдельных балетов того же Баланчина, дошедших до России очень поздно и в отрыве от породившего их контекста, принято проецировать на все остальные его работы. И кажется, что новые «Аполлоны» и «Агоны» тоже могут сваливаться с неба по лицензии, а каждый молодой хореограф с первой же постановки должен быть гением, а не то разрешите вам выйти вон. Лишь потом оказывается, что рост новых хореографов – дело крайне медленное, что хореографы – товар штучный, массово не произрастают, и требуют бездну терпения, сдержанности и помощи наблюдателей.
Подражание начинающих хореографов великим предшественникам в публичных высказываниях часто преподносится как смертный грех. Но лично я не верю в гениев, которые могут свалиться с неба и тотчас одарить нас новым словом в искусстве. Чем бы ты ни занимался, ставил балеты или горшки лепил, вначале все равно будешь за кем-то повторять и подглядывать. Дальнейшее зависит от твоей любознательности, способности к критическому мышлению и, пардон, таланта.
Устало сравнивая молодых хореографов со столпами прошлого, обычно упускают самое важное. Из трехсот балетов гениального Баланчина мы знаем только двадцать лучших. Первый из дошедших до сего дня балетов Петипа, «Баядерку», автор поставил в 59 лет. Даже причисленный к стану гениев Алексей Ратманский за свои первые значимые работы, показанные в Петербурге, получил клеймо эрзац-хореографа. Теперь и Ратманского нет, балетное сообщество потупило взоры и каждого претендента на вакантную должность Российского Хореографа бьет по рукам. На всякий случай. Лучше уж не будет.
Ценность отдельных балетов того же Баланчина, дошедших до России очень поздно и в отрыве от породившего их контекста, принято проецировать на все остальные его работы. И кажется, что новые «Аполлоны» и «Агоны» тоже могут сваливаться с неба по лицензии, а каждый молодой хореограф с первой же постановки должен быть гением, а не то разрешите вам выйти вон. Лишь потом оказывается, что рост новых хореографов – дело крайне медленное, что хореографы – товар штучный, массово не произрастают, и требуют бездну терпения, сдержанности и помощи наблюдателей.
Устало сравнивая молодых хореографов со столпами прошлого, обычно упускают самое важное. Из трехсот балетов гениального Баланчина мы знаем только двадцать лучших. Первый из дошедших до сего дня балетов Петипа, «Баядерку», автор поставил в 59 лет. Даже причисленный к стану гениев Алексей Ратманский за свои первые значимые работы, показанные в Петербурге, получил клеймо эрзац-хореографа. Теперь и Ратманского нет, балетное сообщество потупило взоры и каждого претендента на вакантную должность Российского Хореографа бьет по рукам. На всякий случай. Лучше уж не будет.
Ценность отдельных балетов того же Баланчина, дошедших до России очень поздно и в отрыве от породившего их контекста, принято проецировать на все остальные его работы. И кажется, что новые «Аполлоны» и «Агоны» тоже могут сваливаться с неба по лицензии, а каждый молодой хореограф с первой же постановки должен быть гением, а не то разрешите вам выйти вон. Лишь потом оказывается, что рост новых хореографов – дело крайне медленное, что хореографы – товар штучный, массово не произрастают, и требуют бездну терпения, сдержанности и помощи наблюдателей.
Бессловесное искусство чувствительнее всего именно к словам.
Бессловесное искусство чувствительнее всего именно к словам.
Делая первые корявые шаги, но получая в качестве обратной реакции только негативные слова, начинающие авторы – и те немногие руководители трупп, которые рискуют их поддерживать, – впадают в ступор и сворачивают активность. Психика балетных людей слишком хрупка, чтобы вынести такое давление: отвечать словами на слова они совершенно не приспособлены.
Фактически, сегодня в российском публичном пространстве дискурс вокруг новой хореографии свернут до негативно-оборонительного – или свернут вообще. Мы помним публичные обсуждения новых работ в Мариинском театре, происходивших в формате «стенка на стенку», когда хореографов ставили в позицию обвиняемых и вынуждали защищаться, когда буффонные персонажи в публике, путая фамилии участников, ревели, что «Баланчины не вы». Теперь и эти дискуссии прекращены – вероятно, во избежание новых курьезов.
Фразы типа «похоже на зачет по композиции» ещё не содержат анализ работы. К новой российской хореографии предъявляют огромные претензии в поле публичных высказываний, но оценивают ее по очень расплывчатым критериям. Кажется, в русскоязычной прессе ещё не возникало попыток поговорить не о похожести молодого хореографа Пупкина на старого хореографа Баланчина, но о методах его работы с баланчинской моделью спектакля, об образном строе (или его отсутствии), о принципах соотношения музыкального и танцевального времени – да вообще о природе классического танца, который как замкнутая художественная модель за триста лет почти исчерпал себя, и никто не знает, что с ним делать сегодня. Не о том, что Пупкин никогда не сумеет соорудить трехактный балет по роману Достоевского, но о том, что дискурс «балет по роману Достоевского» теперь принципиально неуместен – потому что невозможно всерьез воспроизводить модели большого искусства, актуального пятьдесят или сто лет назад – потому что изменился состав воздуха и скорость перемещений в пространстве, человечество пережило ряд гуманитарных потрясений, реальность стала восприниматься как набор разнообразных функций, доступных одномоментно по клику на дисплее гаджета; ещё не было разговора о том, какими методами эту большую трехактную форму можно деконструировать сегодня, и какие существуют прецеденты.
Совсем не доказано, что Пупкин так уж инфантилен и не соображает, что делает – возможно, есть смысл подсесть к нему на скамейку и поговорить об этом по-дружески.
Фактически, сегодня в российском публичном пространстве дискурс вокруг новой хореографии свернут до негативно-оборонительного – или свернут вообще. Мы помним публичные обсуждения новых работ в Мариинском театре, происходивших в формате «стенка на стенку», когда хореографов ставили в позицию обвиняемых и вынуждали защищаться, когда буффонные персонажи в публике, путая фамилии участников, ревели, что «Баланчины не вы». Теперь и эти дискуссии прекращены – вероятно, во избежание новых курьезов.
Фразы типа «похоже на зачет по композиции» ещё не содержат анализ работы. К новой российской хореографии предъявляют огромные претензии в поле публичных высказываний, но оценивают ее по очень расплывчатым критериям. Кажется, в русскоязычной прессе ещё не возникало попыток поговорить не о похожести молодого хореографа Пупкина на старого хореографа Баланчина, но о методах его работы с баланчинской моделью спектакля, об образном строе (или его отсутствии), о принципах соотношения музыкального и танцевального времени – да вообще о природе классического танца, который как замкнутая художественная модель за триста лет почти исчерпал себя, и никто не знает, что с ним делать сегодня. Не о том, что Пупкин никогда не сумеет соорудить трехактный балет по роману Достоевского, но о том, что дискурс «балет по роману Достоевского» теперь принципиально неуместен – потому что невозможно всерьез воспроизводить модели большого искусства, актуального пятьдесят или сто лет назад – потому что изменился состав воздуха и скорость перемещений в пространстве, человечество пережило ряд гуманитарных потрясений, реальность стала восприниматься как набор разнообразных функций, доступных одномоментно по клику на дисплее гаджета; ещё не было разговора о том, какими методами эту большую трехактную форму можно деконструировать сегодня, и какие существуют прецеденты.
Совсем не доказано, что Пупкин так уж инфантилен и не соображает, что делает – возможно, есть смысл подсесть к нему на скамейку и поговорить об этом по-дружески.
Делая первые корявые шаги, но получая в качестве обратной реакции только негативные слова, начинающие авторы – и те немногие руководители трупп, которые рискуют их поддерживать, – впадают в ступор и сворачивают активность. Психика балетных людей слишком хрупка, чтобы вынести такое давление: отвечать словами на слова они совершенно не приспособлены.
Фактически, сегодня в российском публичном пространстве дискурс вокруг новой хореографии свернут до негативно-оборонительного – или свернут вообще. Мы помним публичные обсуждения новых работ в Мариинском театре, происходивших в формате «стенка на стенку», когда хореографов ставили в позицию обвиняемых и вынуждали защищаться, когда буффонные персонажи в публике, путая фамилии участников, ревели, что «Баланчины не вы». Теперь и эти дискуссии прекращены – вероятно, во избежание новых курьезов.
Фразы типа «похоже на зачет по композиции» ещё не содержат анализ работы. К новой российской хореографии предъявляют огромные претензии в поле публичных высказываний, но оценивают ее по очень расплывчатым критериям. Кажется, в русскоязычной прессе ещё не возникало попыток поговорить не о похожести молодого хореографа Пупкина на старого хореографа Баланчина, но о методах его работы с баланчинской моделью спектакля, об образном строе (или его отсутствии), о принципах соотношения музыкального и танцевального времени – да вообще о природе классического танца, который как замкнутая художественная модель за триста лет почти исчерпал себя, и никто не знает, что с ним делать сегодня. Не о том, что Пупкин никогда не сумеет соорудить трехактный балет по роману Достоевского, но о том, что дискурс «балет по роману Достоевского» теперь принципиально неуместен – потому что невозможно всерьез воспроизводить модели большого искусства, актуального пятьдесят или сто лет назад – потому что изменился состав воздуха и скорость перемещений в пространстве, человечество пережило ряд гуманитарных потрясений, реальность стала восприниматься как набор разнообразных функций, доступных одномоментно по клику на дисплее гаджета; ещё не было разговора о том, какими методами эту большую трехактную форму можно деконструировать сегодня, и какие существуют прецеденты.
Совсем не доказано, что Пупкин так уж инфантилен и не соображает, что делает – возможно, есть смысл подсесть к нему на скамейку и поговорить об этом по-дружески.
Фактически, сегодня в российском публичном пространстве дискурс вокруг новой хореографии свернут до негативно-оборонительного – или свернут вообще. Мы помним публичные обсуждения новых работ в Мариинском театре, происходивших в формате «стенка на стенку», когда хореографов ставили в позицию обвиняемых и вынуждали защищаться, когда буффонные персонажи в публике, путая фамилии участников, ревели, что «Баланчины не вы». Теперь и эти дискуссии прекращены – вероятно, во избежание новых курьезов.
Фразы типа «похоже на зачет по композиции» ещё не содержат анализ работы. К новой российской хореографии предъявляют огромные претензии в поле публичных высказываний, но оценивают ее по очень расплывчатым критериям. Кажется, в русскоязычной прессе ещё не возникало попыток поговорить не о похожести молодого хореографа Пупкина на старого хореографа Баланчина, но о методах его работы с баланчинской моделью спектакля, об образном строе (или его отсутствии), о принципах соотношения музыкального и танцевального времени – да вообще о природе классического танца, который как замкнутая художественная модель за триста лет почти исчерпал себя, и никто не знает, что с ним делать сегодня. Не о том, что Пупкин никогда не сумеет соорудить трехактный балет по роману Достоевского, но о том, что дискурс «балет по роману Достоевского» теперь принципиально неуместен – потому что невозможно всерьез воспроизводить модели большого искусства, актуального пятьдесят или сто лет назад – потому что изменился состав воздуха и скорость перемещений в пространстве, человечество пережило ряд гуманитарных потрясений, реальность стала восприниматься как набор разнообразных функций, доступных одномоментно по клику на дисплее гаджета; ещё не было разговора о том, какими методами эту большую трехактную форму можно деконструировать сегодня, и какие существуют прецеденты.
Совсем не доказано, что Пупкин так уж инфантилен и не соображает, что делает – возможно, есть смысл подсесть к нему на скамейку и поговорить об этом по-дружески.